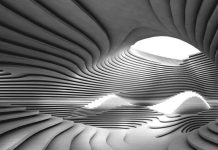Эксперименты архитектурного авангарда вплоть до конца первой четверти XX века развертывались в четко определенном регионе: Европа, США, Советский Союз, совпадая в основном с тем, что называли индустриальными обществами
За их границами традиционная архитектура городов все в большей мере вытеснялась зданиями, следовавшими стереотипам европейских школ академического толка и европейской же «архитектуры выбора» (в чем виделось преодоление культурной отсталости). Наибольшей популярностью (особенно в Латинской Америке) пользовалась при этом традиция парижской Школы изящных искусств, остававшейся главной опорой академизма
Между мировыми войнами промышленное развитие южноамериканских и некоторых азиатских стран, сопровождавшееся активной урбанизацией создало предпосылки для восприятия идей «новой архитектуры» среди которых впрочем, наибольшее практическое значение имели не столько социально-утопические аспекты, сколько символическое утверждение прогрессистских и технократических идей, а иногда — поверхностно воспринятые очертания международной эстетической моды, — именно ею виделась «интернациональная архитектура».
Произведения, отвечавшие ее внешним признакам, стали появляться в Южной Америке, Японии, Южной Африке, Австралии. Но в 1930-е, во-первых, это были единичные объекты — иногда созданные в надежде подтолкнуть обновление своих стран, иногда — рассчитанные скорее на эпатирующую исключительность; во-вторых, эти объекты были, как правило, вполне профессиональны, но вторичны.
Они воспроизводили конкретные признаки и имитационные клише «интернационального стиля» вообще или произведений кого-то из лидеров направления (обычно образцом служило творчество Ле Корбюзье). При этом вопрос об их органической связи с культурным контекстом страны или контекстом места даже не ставился. В этом ряду можно упомянуть жилые дома и школы, построенные Хуаном О’Горманом (1928-1930) и здание профсоюза электриков (1938) Энрике Яньеса в Мехико; особняки Грегори Варшавчика (1929) в Сан Паулу, Бразилия; госпиталь университета в Каркасе (1945) Карлоса Рауля Вильянуэвы; постройки Антонина Раймонда, Дзундзо Ямагути и Камеки Цитиура в Японии Альберто Сарториса в Аргентине. Вопрос о том, может ли быть архитектура, хорошая для Парижа или Франкфурта, так же хороша для Рио де Жанейро, Мехико или Киото, в то время не поднимался.
Ситуация коренным образом изменилась после второй мировой войны. Уже в 1950-е гг. интернациональную панораму стран, предлагавших принципиально новые идеи в архитектуре, пополнили Мексика и Бразилия в Латинской Америке, Япония на Дальнем Востоке
Это было началом процесса, изменившего общий ход мирового развития архитектуры — оно переставало быть гонкой за немногими лидерами. В пятидесятые годы страны за пределами европоцентричной «культурной ойкумены» уже не ограничивали свои притязания «национальным самоопределением»; в равной мере, они уже не видели в «интернациональном стиле» средство обозначить свое вхождение в некий клуб современных культур. Абстракции «нового движения» в архитектуре послужили для того, чтобы преодолеть конкретность и узость традиционных художественных языков и выйти к их архетипам.
Теперь новые формы и новые языки выдвигались с претензией расширить и изменить само содержание «интернационального», что в существенной степени удалось Мексиканские и бразильские архитекторы при этом активно использовали взаимодействие всех составляющих визуальной культуры; японские обратились ко взаимодействиям на уровне понятий и смыслов собственной и европейской культур, чтобы предложить принципы, специфически японские по происхождению, но обладающие универсальной ценностью, порождающие категории интернационального, европейской культурой не найденные
Для мексиканской и бразильской архитектуры (как и других, определившихся позже латиноамериканских архитектурных школ) характерно обостренное внимание к социальному символизму и культурно-знаковой функции зодчества, связанной с поведенческой ориентацией Отсюда — ее склонность к риторическим крайностям, пафосу, равнению на идеальное и должное
Но завышенные требования могли осуществляться только в немногих избранных программах, за счет крайнего аскетизма массового строительства. Разделение на монументально-символическое «высокое» зодчество и утилитарно-аскетическое массовое строительство стало в пятидесятые особенно наглядным и в Мексике, и в Бразилии отражая социальные контрасты их обществ.
Архитекторы не усматривали в этом этической проблемы Бразильский архитектор Энрике Миндлин писал: «Современная архитектура Латинской Америки выступает скорее как способ выражения идеалов и стремлений народа, чем как средство решения его повседневных задач. Экономические условия в большинстве стран Латинской Америки делают это почти неизбежным. Когда предстоит сделать еще так много, стимулировать мужество и решимость не менее важно, чем упорно добиваться скромных практических результатов единственно возможных в современных условиях»63.
В мексиканской культуре после революции 1910-1917 гг. лидировала живопись «мексиканского возрождения», обращавшая свои образы, основанные как на национальной традиции, так и на уроках европейского «левого искусства», к неграмотным массам Художники — недавние офицеры революционных армий — видели свое искусство средством продолжения политической борьбы Их гражданский пафос связывался с мифологией и символикой доиспанских культур. Движение объединяла «великая тройка» — Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско Давид Альфаро Сикейрос. Поначалу они развертывали свои «мурали» в пространствах исторических зданий
Современная архитектура заявила себя как средство выражения идей 1930-х гг.; созвучие социальному утопизму реформаторов виделось в аскетич- ности ее форм Лидер, Хосе Вильягран-Гарсия, провозгласил лозунги рационалистической архитектуры основываясь на идеях Ле Корбюзье и Гропиуса Под влиянием художников призывавших «устранить индивидуализм, так как он буржуазен», Хуан О’Горман, наиболее яркий среди мексиканских функционалистов, выдвинул принцип «бедной архитектуры», используя обнаженный бетон и жесткие очертания геометрических тел.
Подобный аскетизм отвечал как демагогии лозунгов, так и реальной скудности средств Но это понимали и принимали только в кругах интеллектуалов. Массы, погруженные в подлинную бедность, не могли принять ее как грань нового идеала. Да и функционализм создавший свою демонстративную бедность по европейским канонам, в условиях Мексики не был функционален.
Новая мексиканская архитектура, сложившаяся к началу пятидесятых, возникла в интеграции с принципами живописи, помогавшими преодолеть «немоту» функционализма. Но к этому времени живописцы Мексики разделились на политически ангажированных «муралистов» и тех, кто исследовал средства и возможности живописи как таковой, обращаясь как к архетипам национального искусства, так и к поискам первичных элементов формы в живописи европейского посткубизма.
Соответственно определились два направления в архитектуре: агрессивно-монументальное, подчинившее пространственные структуры условиям демонстрации гигантских повествовательно-аллегорических «муралей», и контекстуальное, целью которого было гармонически войти в специфическую среду, используя синкретическое единство неких архетипов гармоничного формирования национальной архитектуры и формальных начал неопластицизма и минималистского искусства середины века.
Первое было обращено к массам и соединяло политическую пропаганду и дидактические смыслы, второе — к интеллектуальной элите (и, случайно или нет, — к иностранным посетителям страны, находившим в нем некое переходное звено между образами интернациональной и местной культур).
Пятидесятые годы стали временем взлета мексиканской архитектуры, ее синтетического единства с мощно развернувшейся и необычно популярной в стране живописью. Крупнейшей реализацией синтеза стал комплекс университетского городка в Мехико (генеральный план 1946 г., архитекторы Энрике дель Мораль. Марио Пани, Карлос Ласо и др.) — один из самых обширных общественных ансамблей западного полушария Живописцы, во главе с Сикейросом, развернули общественную кампанию, требуя включения в процесс проектирования с самого его начала
Комплекс создавался как утопическая модель идеального города, противопоставленная хаосу массовой миграции. Идеализированная урбанистическая схема основывалась на универсальных в то время геометрических структурах — специфична лишь обширность пространств, отчасти порождающая ассоциации с городами древней Мексики
Ядром пространственной композиции университета стал обширный партер (340×170 м), разграфленный квадратной сеткой дорожек, вымощенных коричневыми плитами лавы Камень, образующий основу вулканических формаций участка, использован в облицовке зданий, задавая колористическую тональность ансамбля.
Его головная часть обращена к вылетной магистрали — главной связи с городским центром. Этот символический вход в городок отмечен 15-этажной вертикальной массой ректората (1952, архитекторы М. Пани, Э. дель Мораль, С. Ортега) и мощной 11-этажной пластиной библиотеки университета (1950-1953, архитекторы X. О Горман, Г. М. Сааведра, X. Мартинес де Веласко).
Призматические объемы сами по себе не могли бы противостоять громадности расстилающегося за ними партера Однако их восприятие активизировано мощными живописными акцентами Сам прием концентрации пространства вокруг зданий-акцентов и асимметрия их группы при точной ориентации объемов по странам света исходят от структуры ансамблей доиспанской Мексики Еще более открыто эта связь заявлена в формообразовании сооружений.
В последнем можно выделить два типа. Один осуществлен в здании библиотеки. Привычный словарь международной рационалистической архитектуры 1950-х гг. использован для развертывания громадных плоскостей — основы мозаики из естественного камня. Этими экранами служат глухие наружные стены, навешенные на железобетонный каркас книгохранилища (автор мозаики — X. О’Горман).
Нейтральная геометрия рационалистической архитектуры сочетается здесь с характерно-мексиканской цветовой и ритмической напряженностью живописи. Четыре фасада пластины трактованы как четыре листа пиктографического письма. Повествовательный ряд изображений, как и их форма, вызывающая ассоциации с доиспанским искусством, декларируют связь древней и современной культур. Архитектурный масштаб мозаики и ее материал точно сведены в систему
Примером второго подхода к формообразованию служит Олимпийский стадион, отделенный от основной территории университетского городка автомагистралью (1952, архитекторы А. Перес Паласиос, Р. Салинас Моро, X. Браво Хименес). Сооружение создано путем заглубления арены и отсыпки грунта в основание трибун.
Массивы грунта облицованы блоками из вулканического камня и бетона — конструкция, аналогичная применявшейся для пирамид древней Мексики Близок к ним и масштаб «рукотворного холма» с его верхней кромкой, очерченной по кривой, развернутой в трех измерениях. Ривера дополнил аналогию гигантской архитектурно-скульптурной композицией на внешнем склоне «Рождение мексиканского народа» (цветные камни на поверхности бетонного рельефа)
Эксперимент со скульпто-живописью стадиона был подготовлен оформлением Риверой бассейна Лерма, питающего Мехико питьевой водой (1951). Здесь, на плоском дне неглубокого водоема, энергично вылеплено гротескное изображение бога дождя Тлалока, покрытое пестрой мозаикой из естественного камня. Его трудно расшифровать в ракурсах, определяемых нормальным уровнем человеческого взгляда, но антропоморфная форма обеспечила богатство неожиданных цветопластических сочетаний воспринимаемых как декоративные и бессюжетные (прием, идущий от декоративных композиций А. Гауди).