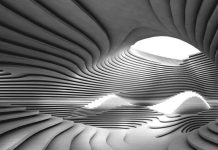Господствующим духовным направлением в русской религиозной жизни XV в. оставался исихазм — в том его виде, как он сложился среди подвижников круга преподобного Сергия Радонежского.
Можно смело утверждать, что он «отлился» в своего рода национальный тип благочестия и святости. Исихастский идеал молитвенника-отшельника нашел свое наиболее полное воплощение в монашестве, ознаменованном в этот период новой для Руси чертой — тягой к пустынножительству.
Прямым культурным следствием распространения пустырей , включая самые отдаленные ее земли; иными словами, происходило стремительное расширение ее духовной географии.
С другой стороны, тот же духовный идеал в виде своего рода тайноподвижничества входит составной частью и в образ русских церковных иерархов, особенно святителей.
Часто в летописях упоминаются вериги под богатой ризой, ночные молитвенные бдения, уходы в затвор. Цель их политического служения всегда имела очевидную духовно-национальную окраску, в системе ценностей святость ставится выше политического успеха.
Наиболее завершенное воплощение русский духовный идеал обретает в образе и личности преп. Сергия Радонежского. Он стал его живым символом. «Преподобный Сергий… представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, — пишет об этом Г. Федотов, — несмотря на заострение обоих полярных концов ее: мистического и политического.
Мистик и политик, отшельник и киновий совместились в его благодатной полноте». Однако надолго этот баланс в русской духовной жизни не удержался и уже в XV веке ученики Сергия «направятся в разные стороны».
Именно эти две стороны русского духовного идеала — мистика и социальное служение — легли в основу того раздвоения дальнейших путей русского благочестия, которое было определено исследователями как «трагедия древнерусской святости».
Речь пойдет о т.н. «иосифлянах» и «нестяжателях». В этом отношении характерно, что духовная генеалогия и Нила Сорского, и Иосифа Волоцкого восходит непосредственно к Сергию Радонежскому. Однако, несмотря на общий духовный корень, пути русского благочестия в лице этих двух святых и их учеников серьезно разошлись.
Надо отметить, что в трудах Иосифа Волоцкого и Нила Сорского русское богословие, наконец, «заговорило». Нам это дает возможность более полного сравнения словесного и «вещественного» выражения тогдашнего духовного опыта. А поиски форм этого выражения и начавшаяся рефлексия по этому поводу вообще стали общекультурной приметой этого времени8.
Суть же сугубо религиозно-богословской ситуации второй половины XV в., как это явствует из источников, состояла по существу в спонтанном оформлении и своеобразном противоборстве на Руси двух теологических линий: апофатической и катафатической.
На Руси линия мистического богословия исповедовалась и была развита «заволжскими» подвижниками. Скитская жизнь, учрежденная Нилом Сорским порождала живую святость.
Хорошо известны их религиозно-практические установки — молитвенно-созерцательный подвиг, уход от мира, нестяжание, пустынножительство. Однако в условиях тогдашней жизни на Руси однозначная ориентация на такие установки таила ряд опасностей.
Во-первых, такой духовный путь был по своему «элитарным». В полноте он был осуществим лишь в особых условиях и уже потому был практически недоступен народному благочестию.
Во-вторых, полное отрешение от всех земных благ, дел и целей, буквальная нищета имели своей обратной стороной полное выпадение из социальной жизни. А это входило в достаточно резкое противоречие и с реалиями тогдашней исторической обстановки на Руси, и, что еще важнее, с состоянием русского мирянского благочестия, которое в своих недрах еще сохраняло инерцию языческого сознания.
Сугубо мистический путь представлял реальную опасность для такого сознания — здесь таилась угроза отрыва от догматического знания, которое вело к духовным провалам и «лишениям». Народное благочестие нуждалось более в христианском просвещении и формальном структурировании.
В этом деле, как правило, далеко не последнюю роль играли вопросы оформления культа. А именно в этих вопросах позиция нестяжателей была последовательно аскетической: «И нам сосуды златы и сребряны и самые священыя не подобает имети, такожде и прочая излишняя, но точия потребная церкви приносити», — говорит Нил Сорский.
Достаточно отрицательным было и общее отношение к искусству: «Не лепо чудитися делу рук человеческих», — повторяет он вслед за Пахомием Великим10.
«Требуемые» духовные функции приняло на себя и стало развивать благочестие Иосифа Волоцкого. Его духовный путь, также как и ведомой им паствы, — это путь христианского просветительства, социального служения, строжайшего практического соблюдения норм и форм христианской жизни и обрядового благочестия, а в области «теории» — катафатического познания (т.е. познания области Божественного через земные проявления и земные аналогии, опираясь на то, что Бог сам открыл о себе людям).
В последнем для нас особенно важна его «эстетическая» направленность, поскольку одной из центральных категорий позитивного богопознания была категория Красоты (по принципу, обозначенному на Западе как «analogia entus» — красота творения отражает совершенство Творца).
Через созерцание прекрасного, через творение прекрасного человек приобщается к первообразной Красоте, которая есть сам Бог. В таком богословском ракурсе красота сама по себе приобретает символическую значимость. Она оказывается средством богопознания, причем гораздо более соединенным с телесной материей (земная красота суть отражение небесной) и доступным обыденному сознанию, чем мистическое созерцание.
Такой путь как бы теряет однозначно «вертикальную» направленность восхождения к Богу. Напротив, он предполагает движение через «горизонтальное» освоение мира в его телесности и материальности.
По «Ареопагитикам», к которым не раз апеллирует Иосиф Волоцкий, божественная красота не утрачивает «единства своего в раздроблении своем, чтобы сраствориться со смертным срастворением, возвышающим их горе и соединяющим их с Богом»п.Красота сама по себе придает высшую значимость каждому элементу мира и присутствию человека в нем.
Прямым следствием подобной духовно-богословской установки явилась особая забота Иосифа и «иосифлян» прежде всего об украшении культа: о строительстве и украшении храмов, об иконописи, о церковном искусстве вообще. Их, в отличие от нестяжателей, не пугала роскошь культа.
Напротив, все это имело оправдание и особый смысл в лоне религиозного чувства красоты: как прославления Бога, привлечения к Богу, приближения к Нему. А в контексте происходящей в это время борьбы с «иконоборческой» новгородской ересью приобретало особо заостренный религиозный смысл. «И аще убо в Ветхом завете покланяхуся иже от рук человечьскых сътвореной церкви, и прочим боже- ственым вещем, иже сам Бог повеле во славу свою сътворити, то колико паче ныне подобаеть в новей благодати почитати и покланятися иже от рук человеческых написаному на иконе образу Господа нашего Иисуса Христа. … Благоизволи благодать Божиа святых ради икон, и честнаго и животворящаго креста, и прочих божественых и освященых вещей к нам приходити. …И от вещнаго сего зрака възлетает ум наш и мысль к божественому желанию и любви, не вещь чтуще, но вид и зрак красоты божественаго оного изображения».
Такое радикальное расхождение по вопросу оформления культа не могло не сказаться на путях художественной традиции этого времени. Немаловажное значение имел в этом случае фактор социальной востребованности. Как известно, в этом споре исторически победили «иосифляне». «Правда» Иосифа Волоцкого и его последователей оказалась весьма востребованной в русском обществе этого времени: и в высших кругах, и в народной среде.
Что касается художественной культуры, то можно смело утверждать, что дальнейшее развитие ее генеральных линий, особенно официальной, пошло в лоне иосифлянской концепции. (Исключением, в определенной мере, была «заволжская» архитектура).
Многие храмы северных монастырей, сама белозерская школа, представляют, по мнению исследователей , своего рода альтернативную линию основному направлению архитектурного развития Московского государства. Однако в рамках данной работы нет возможности рассмотреть это «исключение»).
Не случайно в постановлениях Макарьевских соборов середины XVI в., в частности в Стоглаве, а также в возражениях митрополита по делу дьяка Висковатого, в пунктах, касающихся регламентации церковного искусства, не раз приводятся буквальные цитаты из «Послания иконописцу» Иосифа Волоцкого. Это прямо говорит о том, что богословская позиция Иосифа стала официальной — в том числе и в вопросах искусства.
Однако в такой социально-политической востребованности этого духовного течения таились и свои опасности, со временем нанесшие немалый ущерб русской духовной культуре. Мы имеем в виду те трансформации и даже извращения, которые претерпевали изначальные духовные установки Иосифа Волоцкого по мере погружения в массовое религиозно-мифологическое сознание, с одной стороны, и в политические страсти, с другой.
На архитектурной жизни Руси это отражалось неоднозначно. Так, например, хорошо известно, какое огромное влияние оказала на архитектурные идеи Московского государства концепция старца Филофея «Москва — Третий Рим».
Старец Филофей был иосифлянином и суть его послания к царю отражала духовный настрой и религиозное мышление именно этого церковного направления. Однако, «дойдя» до архитектурного воплощения, идеи старца претерпели радикальную трансформацию в своем богословском содержании — и во многом именно благодаря этой трансформации они и потребовали архитектурного воплощения.
Изначальная идея этого послания имела эсхатологическую окраску и ее смыслом было стремление напомнить царю о близком конце времен, дабы повысить его духовную бдительность и ответственность как царя последнего православного Царства.
Но, как показывает история, смысл ее в контексте политической жизни последующего периода стал меняться практически на противоположный, оказавшись в значительной мере пищей для царских амбиций и национального самовозвеличивания.
Всего парадоксальнее то, что именно в этом преобразованном виде, и во многом благодаря ему, идея «Москвы — Третьего Рима» и стала давать мощные импульсы архитектурному развитию. Особенно это сказалось на последующем архитектурном оформлении центра Москвы, а вслед за ним и на развитии общерусской храмовой традиции.