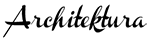В отличие от пространства природы, архитектура представляет собой окультуренное, искусственное, очеловеченное пространство. Это определяет некую двойственность, неясность в постановке вопроса об архитектуре как картине мира.
В качестве пространства архитектура ничего не изображает, но просто есть, и в этом смысле она никакая не картина мира, но просто мир. С другой стороны, этот мир не молчалив, подобно ландшафту, но, напротив, вовсю транслирует идеи и идеологии и в этом смысле о чем-то повествует, является картиной чего-то.
Тогда понятие картины мира все же применимо к архитектуре. … Разумнее, быть может, не пытаться понять и описать архитектуру как еще одну картину мира в семиотической галерее различных языков культуры, но, напротив, продумать дразнящее сходство между «картиной мира» (как она предстает в семиотических исследованиях) и архитектурой — в конечном счете для того, чтобы эксплицировать, вывести на поверхность их различие. Именно это различие, как представляется, и может стать неким нетривиальным вопросом к архитектуре о ее специфике.
Парадокс историчности
…Можно сказать, что схема «мирового древа» одинаково сопоставима с политической символикой Версаля и архитектуры Брахманидов в Индии, восточно-православным храмом и символикой Дворца Советов в Москве, масонской символикой храма Христа Спасителя Витберга и библейской символикой Башни III Интернационала Татлина.
Можно, разумеется, найти отличия названных примеров от классических схем мирового древа, но эти отличия не превысят обычных пределов вариативности для столь фундаментальной структуры. Наверное, для структурного антрополога родство фундаментальных систем мирового древа с символикой шедевров архитектуры — факт, исполненный радостных заветов. Иначе — у искусствоведа.
Если для архитектуры, непосредственно вырастающей из мифологических культур, это родство выглядит естественным (а при его исследовании может оказаться захватывающе интересным), то для более отдаленных эпох ситуация выглядит иначе. Сходство солярной символики в градостроительной схеме Версаля и в планировке индейских деревень, исследованных К. Леви-Строссом, кажется уже не захватывающе интересным, но отчасти тревожным.
Если Версаль и индейские деревни передают одну и ту же идею пространства, то их смысл оказывается как бы одинаковым, равноценным, что для историка искусства уже просто возмутительно. Кажется, что иконографические исследования, обнаруживающие скрытую символику архитектуры, открывают самые глубокие и тонкие слои семантики архитектуры, некую квинтэссенцию смысла памятника. И вдруг эта тончайшая и почтеннейшая материя смысла, эта квинтэссенция ценности памятника предъявляется нам в наглом и неприличном виде примитивной индейской деревни.
Дело, однако, не в чувствах искусствоведа. Само сходство тех картин мира, которые описывает семиотика, и архитектуры может быть понято как вопрос. В самом деле, эти картины мира, эти рощи «мировых древ», возникают из исследования мифологических культур. То есть доисторических времен. Именно до-историей «датируются» эти ясно выстроенные и символически обжитые картины Космоса. Архитектуры же в это время нет. Можно, конечно, назвать архитектурой курганы и менгиры, юрты и шалаши, но глубочайшая пропасть между «хижиной и дворцом» от этого не исчезнет.
Ясно, что, даже называя доисторические постройки зодчеством, мы имеем в виду под этим словом нечто принципиально иное, чем зодчество в обычном смысле. Архитектура рождается лишь с началом истории. Почему? Почему возникновение истории оказывается для архитектуры условием ее осуществления, если уже в до-истории мы имеем столь развитую и символически освоенную структуру Космоса, некие мыслительные здания, сравнимые по масштабам с любой архитектурно-символической программой? Почему сама возможность архитектуры оказывается опосредованной историей? Эти вопросы производят впечатление в лучшем случае какой-то наивности, в худшем — неправильности, незаконности. Само это впечатление уже показательно.
Законными нам кажутся те вопросы, которые так или иначе соотнесены с существующими парадигмами изучения. Но ни в одной из парадигм архитектуроведения вопрос об историчности архитектуры не ставится — она полагается сама собою разумеющейся. Историчность — это принятие времени, осознание необратимости тех изменений, которые оно с собой несет. Как пространственное искусство архитектура вообще не выглядит релевантной времени.
Но главное — утверждает своим статусом не изменения, но стабильность, не время, но вечность. М. Элиаде противопоставил «Космос» и «историю» как две формы миропонимания.6. Космос стабилен, история — подвижна, отсюда две разные модели мира и две разные стратегии культуры. В этом противопоставлении архитектура всей своей поэтикой принадлежит миру Космоса, а не истории: Парфенон, Пантеон, Св. София или готический собор — все они ярко и ясно утверждают идею вечности.
Парадокс заключается в том, что этот Космос осуществляется лишь на фоне истории. Эту ситуацию одновременной, казалось бы, исключенноcти архитектуры из истории и невозможности существования вне ее мы обозначаем как парадокс историчности архитектуры. 3. Космос на фоне истории Парадокс историчности не может быть снят, ибо очевидное противостояние архитектуры и времени, Космоса и истории не может быть преодолено. Но мы должны понять его как сущностную проблему архитектуры.
Тогда вопрос в том, почему архитектура возможна лишь на фоне истории, превращается в вопрос о самой сути архитектуры, основе ее самостояния — вопрос, который сама она разрешает постоянно. Мы обозначили как интуитивно очевидное отличие доисторического строительства от собственно архитектуры. Попытаемся теперь его эксплицировать. В чем оно? Поставим этот вопрос в предельно наивной форме: в чем, скажем, отличие греческого храма, например Парфенона, от какой-нибудь избы?
Наивный вопрос дает нам достаточно ясный ответ: Парфенон обладает некой специфической формальной концепцией. Его форма не сводима ни к конструкции, ни к функции, ни к материалу, ни к традиции — словом, ни к чему, что искусствознание использует для ее объяснения, прекрасно зная, что это объяснение остается частичным, а полное — невозможно, ибо оно есть посягательство на саму тайну искусства. Можно сказать, что форма превращается здесь в некий самостоятельный феномен, самостоятельную тему обдумывания, сюжет рефлексии мастера. В таком случае именно наличие формы как самостоятельного сюжета рефлексии (можно сказать, рефлексивной формы) и есть отличие архитектуры от доисторического строительства.
Тогда парадокс историчности архитектуры может быть сформулирован в ином виде. А именно, как вопрос о том, почему художественная форма возникает лишь на фоне истории. Если вопрос об историчности архитектуры вообще выглядит каким-то наивным и неправильным, то вопрос о форме уже не кажется таковым. Он соотнесен с одной из фундаментальных парадигм знания об искусстве — с парадигмой формального искусствознания. Однако ни эта переформулировка, ни это соотнесение не приближают нас к разрешению парадокса. Напротив, они позволяют осознать его глубину.
Мы начали с указания на то противоречие, которое возникает при столкновении архитектуры с парадигмой картины мира: мир или его картина? формальное искусствознание как раз и утверждает такое видение архитектуры, при котором она не является картиной чего-то, но просто есть самоценный феномен. В этом смысле формы архитектуры могут пониматься как рядоположенные ландшафту (ср. С. Эйзенштейн: «пластическая тенденция монумента подобна горам»).
Если же формы сами по себе ничего не значат, то они и не связаны с некой «картиной мира» — они именно созидают архитектуру как мир. Почему же это созидание оказывается возможным лишь на фоне истории? Почему вдруг условием для деятельности человека по производству предметных форм мира, собственно просто вещей, оказывается его историчность? Эту способность гораздо легче связать с некой онтологией человека (cp.»homo faber»), чем с его историей, и именно в этой перспективе он, видимо, осмыслялся отцами формализма (cp.»Kunstwollen» как онтологическое свойство человека у А. Ригля). Попробуем вновь переформулировать вопрос. Что в системе доисторической ментальности противоречит идее формы, почему она невозможна в доистории?
Очевидно, что доисторическая ментальность не может рассматриваться сама по себе — она предстает в виде неких исследовательских моделей. Собственно единственной такой моделью и является «мифологическая культура». Аналогия между этой культурой и архитектурой рассматривалась нами в начале. Стройная система ценностей и смыслов, оппозиций и отождествлений, ясный порядок Космоса — все это выглядит некой архитектурой мысли, которая, казалось бы, прямо диктует появление архитектуры реальной.
Это классически ясная архитектоника, архитектура без архитектуры, и здесь самое существенное это без — в нем вся структура рассматриваемого парадокса. В таком случае представление о доисторической ментальности как о мифологической культуре для разрешения парадокса историчности нам ничего не дает. Возможна ли иная модель? *** По М. Элиаде, значение ритуала заключается в том, чтобы разъять Космос до состояния хаоса, а потом вновь возродить его.
Нам представляется, что это доказывает адекватность модели Бахтина для описания доисторической ментальности. Тождественность законченной формы и смерти позволяет понять, почему форма немыслима в доисторической культуре. Преодоление смерти — тот нерв, та принципиальная задача, которая определяет стратегию этой культуры независимо от того, в какой модели мы ее представляем — в мифологической или в бахтинской. Форма встает на пути постоянного обновления, размыкает цикл «смерть-воскресение» и тем самым впускает смерть в сферу культуры. Этот вывод представляется нам чрезвычайно важным, поскольку превращает форму из феномена вне-человеческого, подобного ландшафту «равнодушной природы», в феномен глубоко человеческий, экзистенциальный.
Однако же этот вывод, этот ответ на вопрос о том, почему форма невозможна в доисторической ментальности, оказывается как бы излишне фундаментальным, слишком сильным. Действительно, следуя логике рассуждения можно изумиться не тому, что форма отсутствует в доистории, но тому, что она появляется вообще. В самом деле, не только доисторическая, но и любая культура вообще нацелена на преодоление смерти.
Структура парадокса углубляется еще и тем, что форма, которая в соответствии с нашим анализом выступает как аналог смерти, впускает смерть в культуру, на самом деле является ничем иным, как способом преодоления смерти. Призыв Перикла «строить на века» относится к любой архитектуре, она самой своей онтологией отнесена в план вечности и противостоит течению времени, несущему смерть. Если в выстроенной нами перспективе форма оказывается как бы синонимом смерти, то в иной перспективе, близкой любому историку искусства, та же форма оказывается ее антонимом. Этот парадокс, будучи так сформулирован, выглядит приведением анализа к абсурду и, стало быть, свидетельствует об ошибке в логике. Но при этом парадокс возникает из совмещения двух перспектив, которые сами по себе совершенно несовместимы.
Действительно, форма выглядит как аналог смерти из перспективы доистории. И наоборот, когда мы смотрим на архитектурные памятники прошлого отсюда, от нас, то они становятся символами вечности, преодолевшими время. Иначе говоря, форма аналогична смерти для доистории и бессмертию — для истории. В такой формулировке вопрос уже не выглядит абсурдным. Больше того, как представляется, он подводит нас к своему разрешению.
Историческое сознание — это осознание изменений, происходящих во времени, и отсюда — признание принципиальной недетерминированности, открытости, неизвестности будущего. При том, что культурная материя доистории находится в постоянном движении, это движение — бег по кругу, ибо все возвращается к первоначальному состоянию, возрождается в прежнем виде. Возвращение делает Космос по сути неизменным, а будущее — предсказуемым, и сколь ни огрубляло бы такое понимание реальное положение вещей, отличие доисторической ментальности от истории в нем наглядно проявляется. Форма же выглядит аналогом смерти тогда, когда все движется по кругу, и аналогом бессмертия — когда круг уже разомкнулся и время движется куда-то в неизвестность.
Предшествующие рассуждения о сходстве мифологического Космоса и архитектурных систем пространственной символики можно свести к утверждению о том, что архитектура оформляет Космос. Представим себе, как выглядит мифологический Космос после того, как цикл движения по кругу разомкнулся и, стало быть, начались необратимые изменения. Постоянное движение культурной материи уже не приводит к возрождению Космоса в прежнем виде. Можно сказать, что на место старого Космоса приходит какой-то новый, и в такой формулировке это утверждение не содержит в себе ничего трагичного. Но это — формулировка современного человека, привыкшего к своей историчности.
Для доисторической же ментальности тот же процесс предстает как трагедия — Космос перестает возрождаться. Едва ли не первое ясное свидетельство осознания необратимости изменений — философия Гераклита. Толкованию Гераклита (названного «Темным») посвящена огромная литература. Нас в данном случае интересует интерпретация, предложенная К. Поппером. По его мнению, идея о том, что «все течет, все изменяется», есть именно осознание начала истории. Причем это не радостный момент осознания человеческой свободы, но трагический момент осознания того, что человеку не на что опереться.
Если история начинается здесь, то она сразу же начинается как трагедия смерти, в которой все превращается в прах и уже не возрождается — в одну реку оказывается невозможно войти дважды. По Попперу, от тезиса Гераклита — прямой путь к философии Платона. Коль скоро все изменяется и течет, человек оказывается в ужасающем положении, когда он, собственно, не в состоянии ничего помыслить и назвать: стоит назвать вещь, а она уже утекла — изменилась. «Идеи» Платона — это именно попытка найти что-либо неизменное в этом временном потоке, жутком течении неизвестно куда.
Действительно, вещь может меняться, но ее идея, «эйдос», пребывает в приятной неподвижности и неизменности, с которой уже может иметь дело уважающий себя мыслитель Принципиально важно то, что сами изменения, развитие, трактуются Платоном только как упадок. Воплощения эйдоса, чем дальше они отстоят от него по времени, тем менее на него походят — они деградируют. … Ведь идея, «эйдос» — это именно средство интеллектуальной борьбы с текучестью мира, т. е. попытка мифологической культуры отстоять себя саму на фоне истории. Эйдос Космоса — это средство противостояния, борьбы с деградацией Космоса.
И если эйдетичность — действительно определяющая черта древнегреческого мышления, то, следовательно, все оно основано на противостоянии регрессу истории. Следуя логике А. Тойиби, можно сказать, что само рождение этого мышления есть ответ на фундаментальный вызов историчности, на осознание необратимости изменений. Еще раз: речь идет об оформлении мифологического Космоса. Вопрос в том, почему в до-истории этого оформления не требовалось, а далее оно превратилось в жгучую проблему. М. Элиаде так описывает воплощение мифологического Космоса в вещном мире мифологической культуры. «Камень будет священным, поскольку форма его свидетельствует о том; что он… представляет собой иерофанию… Этот утес будет священным, поскольку само его существование есть иерофания: несжимаемый и неуязвимый, он то, чем не является человек».
То есть мифологический Космос воплощается непосредственно в тех вещах, которые окружают человека, оформлен природой. Тогда поиск формы этого Космоса оказывается занятием странным и бессмысленным — это просто форма реальности. Для того, чтобы форма предстала как проблема, ситуация должна измениться. А именно — взглянув на этот утес, необходимо понять, что он — так же как и человек — сжимаем и уязвим, изменяется во времени. Камень тогда перестает быть иерофанией. Напротив, все эти камни становятся не более чем ничтожными обломками, руинами некогда грандиозного образа, в котором явился Бог. Именно этот взгляд приходит с началом истории. Ибо на фоне истории материальный мир есть уже не воплощение мифологического Космоса, но последствие деградации этого воплощения. Тогда начинается мучительный и лихорадочный поиск того, как же эти камни и эти утесы лежали до того, как произошла катастрофа и началась деградация. То есть начинается архитектура.
Для Йельской школы конкретная специфика территории, мифология места, на котором возникает святилище, оказывается своего рода иконографической программой храма, основой его семантики. Показателен следующий анализ Эрехтейона, выполненный в духе подобных исследований. «Территория, на которой стоит Эрехтейон, как бы заряжена определенными мифологическими смыслами. Здесь располагались гробницы Кекропа, Эрехтея и Бута, ранних царей Афин, здесь росло чудесное оливковое дерево Афины, здесь оставалась отметина трезубца о соленый источник Посейдона, здесь находилась расщелина, в которой дитя Эрихтоний в образе змеи охранял Афины, здесь упал, по преданию, с неба древний ксоан Афины. Все эти святыни как прикосновения божества — молнии Зевса, трезубца Посейдона, копья Афины — сакрально отмечают территорию этого участка Акрополя. Алтарь — это семя, брошенное богом, семя, из которого вырастает храм — мировое древо».
Тем самым архитектура как бы считывает мифологию места, на котором стоит. Не тот ли это процесс, который мы пытались описать выше? Место само по себе является Священным, в до-истории его реальные природные формы уже воплощают собой иерофанию, мировое древо уже произрастает отсюда. Архитектор же, глядя на тот же ландшафт, на те же формы природы, ужасается тому, как все здесь изменилось и деградировало. Он строит храм на том же месте, где когда-то, видно, стоял храм, а ныне — лишь камни, остатки его разрушения. Он как бы воссоздает былой образ. Архитектура, тем самым, оказывается прежде всего реставрацией.